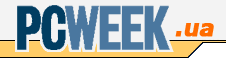Это пример очень плохог о интер фейса. Однако очень многие р азработчики наверняка не увидят тут ничег о такого...
Начнём с цитаты: В декабре 1995 года борт 965 авиакомпании American Airlines совершал свой обычный полёт из Майами в Кали, Колумбия. Во время захода на посадку пилот Boeing-757 должен был выбрать следующий радиомаяк под названием ROZO. Он нажал на «R» в навигационном компьютере. Компьютер вернул в ответ список из ближайших маяков, название которых начинается на «R», и пилот выбрал один из тех, чьи широта и долгота на первый взгляд подходили. К несчастью, вместо ROZO пилот выбрал ROMEO, который находился за132 мили к северо-западу. Лайнер двигался в южном направлении над долиной, которая нисходила в каньон с севера на юг, и любые развороты были опасны.
Однако, следуя указаниям бортового компьютера, пилот начал поворот, и лайнер врезался в гору на высоте 10 тысяч футов. Погибли 152 пассажира и 8 членов экипажа, четверо пассажиров получили тяжелейшие травмы, но выжили. Проведённое расследование сделало вывод — «человеческий фактор» — так начинается книга «Riddles for the Information Age» Алана Купера.
Формально это действительно была ошибка человека — именно пилот выбрал неправильный радиомаяк. Компьютер честно подсказал ему все маяки на «R», честно рассчитал новыйкурс и отдал рекомендации по развороту. Однако, по большому счёту, трагедия случилась, во-первых, из-за непродуманного пользовательского интерфейса и, во-вторых, из-за того, что система не воспринимала информацию об окружении лайнера.
Это настолько типично для современных интерфейсов, что вышеприведённый пример не удивляет. И, автор уверен — большинство читателей этих строк подумали про пилота «сам виноват». Но эти читатели неправы.
Все любят повторять расхожую истину о том, что интерфейс Windows «слизан» с дизайна MacOS, но единицы знают, что на самом деле современный графический пользовательский интерфейс как класс был создан на базе революционных теоретических работ Доуга Энгелбарта в середине 60-х годов. Его концепция была подхвачена и доведена до «прикладного» состояния Xerox PARC в 70-х, а Apple коммерциализировала её в 80-х годах прошлого века. Ну а дальше Microsoft не просто коммерциализировала его, а сделала стандартом де-факто в компьютерной индустрии.
И определённо, люди, которые обвиняют Microsoft в косности, не имели дела с интерфейсом Ribbon в Office 2007. По мнению дизайнеров, это был первый шаг в правильном направлении, но (вот ирония!) он был воспринят в штыки очень многими консервативно настроенными пользователями. И зря. Потому что Ribbon позволяет визуализировать интерфейс — пользователь видит возможный результат своих действий ещё до того, как он принял решение. Фактически, интерфейс позволяет нам принять информированное решение.
Тут самое время сделать ещё один экскурс в историю и напомнить читателю, что революция в чём-либо — это не всегда плохо. Например, до 1786 года все и всегда представляли данные в виде таблиц — другого способа просто не знали. До тех пор, пока в 1786 году экономист Вильям Плейфейр не издал книгу «The Commercial and Political Atlas», в которой впервые использовал… графики трёх основных на сегодня видов: в виде линий, полосок и кругов. Его изобретение революционизировало представление о том, как можно визуализировать информацию, а между тем сегодня оно кажется нам вполне естественным.
Пойди туда не знаю куда
Один человек летел на небольшом самолёте и потерялся в облаках. Он блуждал в них до тех пор, пока не увидел, что пролетает мимо высокого здания с открытыми окнами. Тогда он крикнул человеку в офисе — «Где я?». Человек немедленно ответил: «Ты в самолёте на высоте 30 метров над землёй». Пилот немедленно положил самолёт на нужный курс, нашёл аэропорт и приземлился. Удивлённые пассажиры спросили у него, как ему удалось найти нужный путь. Пилот ответил: «Ответ, который дал мне человек в офисе, был фактически правильным, но абсолютно бесполезным, поэтому я понял, что это разработчик программного обеспечения Microsoft, и я
знал, где находится офис компании по отношению к аэропорту».
Шутки шутками, однако так оно в действительности и есть — современные машины могут сообщать нам факты, однако они не информируют нас. Они могут вести нас ту- да, куда мы попросили их нас вести, но не туда, куда мы хотим попасть. Долгие годы такой подход был если не абсолютно оправданным, то, как минимум, привычным. Но все течёт и всё меняется — многие компании ежедневной работой поднимают планку дизайна всё выше, и выше, и выше.
Ещё через десять лет делать традиционные в сегодняшем понимании интерфейсы станет просто неприлично. И в принципе, любой может поучаствовать в этой тихой эволюции. Для этого достаточно начать считать современные интерфейсы неприемлемыми и странными.
И менять их.
«Пользователи не знают о сложных алгоритмах, структурах данных или гениальной архитектуре приложения. Пользователи видят интерфейс и судят о вашей программе именно по интерфейсу... И они будут раздосадованы, если программа потребует от них чего-то, что они не понимают» (developerart.com, «Interface design and usability for hardcore programmers»).www.digitaltimes.lv 23 bUsiNess
Интерактивность — это плохо
«Интерактивное телевидение!», — говорят нам провайдеры. «Интерактивная реклама в Интернете», — вторят им маркетинговые гуру. А вот многие специалисты в области дизайна и создания пользовательских интерфейсов считают, что интерактивность — это самое страшное зло, которое только подстерегает создателей современных пользовательских интерфейсов. Особенно в разгроме интерактивности преуспел известный дизайнер Брет Виктор, которого, кстати, три года назад наняла Apple для работы над «секретным проектом». Оглядываясь на его статьи трёхлетней давности и глядя на Apple iPad, начинаешь подозревать, что он работал именно над этим проектом. В своём эссе «Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface» Берт Виктор в пух и прах разносит современный подход к созданию интерфейсов для программного обеспечения.
Для кого предназначено программное обеспечение? Для людей. Для чего люди используют программное обеспечение? Для того, чтобы учиться, создавать и общаться, поэтому программное обеспечение можно разделить на информационное, манипуляционное и коммуникативное.
Информационное программное обеспечение используется человеком для создания модели чего-либо и манипулирования ею внутри разума. Хорошая программа такого рода побуждает пользователя задавать вопросы и получать на них ответы, сравнивать и делать выводы. Сайт, посвящённый кухонным рецептам — отличный пример такого рода программы.
Манипуляционное программное обеспечение позволяет человеку создавать. Человек использует его для конструирования модели и манипулирования ею. Любые программы для написания текстов и музыки, создания изображений и видео — отличные примеры манипуляционного программного обеспечения. Оно, между прочим, самое сложное с точки зрения дизайна, а принципы его создания прямо пересекаются с индустриальным дизайном.Ибо дизайнеру нужно придумать инструменты, которые позволяли бы пользователю манипулировать объектом.
Но вернёмся к вопросу «Почему интерактивность — это плохо?». Потому что подавляющее большинство программного обеспечения на самом деле — информационное, однако при этом в его создании используются методы, общие с манипуляционными.
Xerox PARC
Xerox PARC (Palo Alto Research Center Incorporated) — это исследовательское подразделение корпорации Xerox, созданное в 1970 году, а в 2002 году выведенное в отдельную компанию PARC. Сегодня она продолжает заниматься исследованиями в области биомедицинских технологий, пользовательских интерфейсов, «чистых» технологий, встроенных систем.
Однако, следуя указаниям бортового компьютера, пилот начал поворот, и лайнер врезался в гору на высоте 10 тысяч футов. Погибли 152 пассажира и 8 членов экипажа, четверо пассажиров получили тяжелейшие травмы, но выжили. Проведённое расследование сделало вывод — «человеческий фактор» — так начинается книга «Riddles for the Information Age» Алана Купера.
Формально это действительно была ошибка человека — именно пилот выбрал неправильный радиомаяк. Компьютер честно подсказал ему все маяки на «R», честно рассчитал новыйкурс и отдал рекомендации по развороту. Однако, по большому счёту, трагедия случилась, во-первых, из-за непродуманного пользовательского интерфейса и, во-вторых, из-за того, что система не воспринимала информацию об окружении лайнера.
Это настолько типично для современных интерфейсов, что вышеприведённый пример не удивляет. И, автор уверен — большинство читателей этих строк подумали про пилота «сам виноват». Но эти читатели неправы.
Все любят повторять расхожую истину о том, что интерфейс Windows «слизан» с дизайна MacOS, но единицы знают, что на самом деле современный графический пользовательский интерфейс как класс был создан на базе революционных теоретических работ Доуга Энгелбарта в середине 60-х годов. Его концепция была подхвачена и доведена до «прикладного» состояния Xerox PARC в 70-х, а Apple коммерциализировала её в 80-х годах прошлого века. Ну а дальше Microsoft не просто коммерциализировала его, а сделала стандартом де-факто в компьютерной индустрии.
И определённо, люди, которые обвиняют Microsoft в косности, не имели дела с интерфейсом Ribbon в Office 2007. По мнению дизайнеров, это был первый шаг в правильном направлении, но (вот ирония!) он был воспринят в штыки очень многими консервативно настроенными пользователями. И зря. Потому что Ribbon позволяет визуализировать интерфейс — пользователь видит возможный результат своих действий ещё до того, как он принял решение. Фактически, интерфейс позволяет нам принять информированное решение.
Тут самое время сделать ещё один экскурс в историю и напомнить читателю, что революция в чём-либо — это не всегда плохо. Например, до 1786 года все и всегда представляли данные в виде таблиц — другого способа просто не знали. До тех пор, пока в 1786 году экономист Вильям Плейфейр не издал книгу «The Commercial and Political Atlas», в которой впервые использовал… графики трёх основных на сегодня видов: в виде линий, полосок и кругов. Его изобретение революционизировало представление о том, как можно визуализировать информацию, а между тем сегодня оно кажется нам вполне естественным.
Пойди туда не знаю куда
Один человек летел на небольшом самолёте и потерялся в облаках. Он блуждал в них до тех пор, пока не увидел, что пролетает мимо высокого здания с открытыми окнами. Тогда он крикнул человеку в офисе — «Где я?». Человек немедленно ответил: «Ты в самолёте на высоте 30 метров над землёй». Пилот немедленно положил самолёт на нужный курс, нашёл аэропорт и приземлился. Удивлённые пассажиры спросили у него, как ему удалось найти нужный путь. Пилот ответил: «Ответ, который дал мне человек в офисе, был фактически правильным, но абсолютно бесполезным, поэтому я понял, что это разработчик программного обеспечения Microsoft, и я
знал, где находится офис компании по отношению к аэропорту».
Шутки шутками, однако так оно в действительности и есть — современные машины могут сообщать нам факты, однако они не информируют нас. Они могут вести нас ту- да, куда мы попросили их нас вести, но не туда, куда мы хотим попасть. Долгие годы такой подход был если не абсолютно оправданным, то, как минимум, привычным. Но все течёт и всё меняется — многие компании ежедневной работой поднимают планку дизайна всё выше, и выше, и выше.
Ещё через десять лет делать традиционные в сегодняшем понимании интерфейсы станет просто неприлично. И в принципе, любой может поучаствовать в этой тихой эволюции. Для этого достаточно начать считать современные интерфейсы неприемлемыми и странными.
И менять их.
«Пользователи не знают о сложных алгоритмах, структурах данных или гениальной архитектуре приложения. Пользователи видят интерфейс и судят о вашей программе именно по интерфейсу... И они будут раздосадованы, если программа потребует от них чего-то, что они не понимают» (developerart.com, «Interface design and usability for hardcore programmers»).www.digitaltimes.lv 23 bUsiNess
Интерактивность — это плохо
«Интерактивное телевидение!», — говорят нам провайдеры. «Интерактивная реклама в Интернете», — вторят им маркетинговые гуру. А вот многие специалисты в области дизайна и создания пользовательских интерфейсов считают, что интерактивность — это самое страшное зло, которое только подстерегает создателей современных пользовательских интерфейсов. Особенно в разгроме интерактивности преуспел известный дизайнер Брет Виктор, которого, кстати, три года назад наняла Apple для работы над «секретным проектом». Оглядываясь на его статьи трёхлетней давности и глядя на Apple iPad, начинаешь подозревать, что он работал именно над этим проектом. В своём эссе «Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface» Берт Виктор в пух и прах разносит современный подход к созданию интерфейсов для программного обеспечения.
Для кого предназначено программное обеспечение? Для людей. Для чего люди используют программное обеспечение? Для того, чтобы учиться, создавать и общаться, поэтому программное обеспечение можно разделить на информационное, манипуляционное и коммуникативное.
Информационное программное обеспечение используется человеком для создания модели чего-либо и манипулирования ею внутри разума. Хорошая программа такого рода побуждает пользователя задавать вопросы и получать на них ответы, сравнивать и делать выводы. Сайт, посвящённый кухонным рецептам — отличный пример такого рода программы.
Манипуляционное программное обеспечение позволяет человеку создавать. Человек использует его для конструирования модели и манипулирования ею. Любые программы для написания текстов и музыки, создания изображений и видео — отличные примеры манипуляционного программного обеспечения. Оно, между прочим, самое сложное с точки зрения дизайна, а принципы его создания прямо пересекаются с индустриальным дизайном.Ибо дизайнеру нужно придумать инструменты, которые позволяли бы пользователю манипулировать объектом.
Но вернёмся к вопросу «Почему интерактивность — это плохо?». Потому что подавляющее большинство программного обеспечения на самом деле — информационное, однако при этом в его создании используются методы, общие с манипуляционными.
Xerox PARC
Xerox PARC (Palo Alto Research Center Incorporated) — это исследовательское подразделение корпорации Xerox, созданное в 1970 году, а в 2002 году выведенное в отдельную компанию PARC. Сегодня она продолжает заниматься исследованиями в области биомедицинских технологий, пользовательских интерфейсов, «чистых» технологий, встроенных систем.
Xerox PARC известна тем, что в её стенах были придуманы многие вещи, которые позже стали стандартом для индустрии, а также тем, что менеджмент Xerox недооценил потенциал очень многих разработок PARC и упустилвозможность запатентовать их.
Самым известным примером является Xerox Alto — идея персонального компьютера (с мышью!), которая провалилась на рынке (продано 25 тыс. штук) из-за плохого маркетинга и которую довели до ума выходцы из PARC, а затем продали IBM.
Именно для Alto в PARC придумали предка современного графического интерфейса на базе окошек и иконок — Xerox Star, подсмотренный инженерами Apple, которым позволили попасть в секретные лаборатории Xerox
PARC в обмен на право выкупа части акций Apple во время первого их размещения. В PARC также придумали лазерную печать, Ethernet, пиксельную графику, WYSIWYG-редактор, InterPress (язык описания графического изображения вне зависимости от разрешения экрана, предтеча PostScript). Исследователи PARC также внесли свой вклад в создание LCD- дисплеев, оптических дисков и даже IPv6.
Xerox Alto — первый носитель привычно - го нам сег одня GUI. Экр ан р асположен вертикально, так удобнее р аботать с документ ами.
Казалось — уважаемый бренд, десятилетия опыта.... и т акой пр окол с интер фейсом!
Нажатие на какую кнопку повезёт нас вниз?
Очередная отсылка в прошлое, причём предшествующее созданию гра-фического интерфейса. Вот что пишет Джозеф Карл Робнетт Лайкклайдер в книге “Man-Computer Symbiosis” (1960): «Весной и летом 1957 года… я пытался отследить, что относитель-но техническая личность (я) на самом деле делает во время тех часов, которые, как ей казалось, она тратит на работу…. Около 85 процентов моего времени, отведённого на «думание», было потрачено на то, чтобы узнать что-то, придти к точке, после которой я принимал решение. Намного больше времени было потрачено на то, чтобы найти информацию, чем на её обработку. В вычерчивание графиков были вложены часы, а ещё больше времени уходило на то, чтобы обучить помощника тому, как их чертить. Когда графики были закончены, общая картина наконец-то становилась ясной, однако для достижения этого их всё же надо было начертить…. Коротко говоря, в течение того периода моё рабочее время было посвящено задачам, которые можно назвать «механическими»: поиску, расчётам, черчению, определению логических или динамических связей в наборе предположений или гипотез — всё это подготавливало почву для принятия решения или появления „озарения“».
Забавно, но с 1957 года ничего не изменилось — для того чтобы просто механически набрать эту статью, автору потребовалось около одного рабочего дня. Однако часы, и часы, и часы были потрачены на создание её предварительной «модели»: на изучение множества самых разных материалов, общение с людьми, «игру» с цитатами — всё для того, чтобы сначала выстроить стройную картину и лишь затем изложить её. Большую (подавляющую!) часть времени, потраченного на написание статьи, автор искал и связывал воедино огромные массивы информации.
Люди используют программное обеспечение для того, чтобы найти ответ на вопрос или решить проблему. Что идёт в кинотеатре? Что можно приготовить из двух бананов и килограмма макарон? Как починить машину? Сколько денег я трачу в месяц на еду? К сожалению, большинство современных программ, особенно сделанных вчерашними студентами, затрудняет получение информации.
Вот, например (см.иллюстрацию 1е), как Брет Виктор предлагает изменить расписание движения поездов, и так достаточно неплохое, на первый взгляд, на существенно более наглядное. В его версии, поначалу шокирующей, видно, как пересекаются разные маршруты и как они соотносятся во времени и пространстве — из оригинального расписания подобную картину сделать можно лишь в уме. Версия Виктора даёт ответы на вопросы, которые мы ещё даже не задали — и это ключ к успешному графическому дизайну, давать ответы на незаданные вопросы и приводить человека не туда, куда он просит привести, а куда он на самом деле хочет попасть.

«Постоянство, предсказуемость и одинаковость поведения одного элемента управления должны присутствовать во всей системе... Человек знаком с десятком элементов интерфейса операционной системы и не станет осваивать новые способы управления только потому, что они присутствуют на сайте, который он видит впервые» (Артемий Лебедев, «Ководство»). «У меня есть приятель, который любил повторять: „Да ладно тебе, Крис! Кому нужно всё это мумбо-джумбо вокруг искусственного интеллекта? Даже холодильник интерактивен. Ты открываешь его дверцу, и загорается лампочка. Ты её закрываешь, и лампочка гаснет. Вот это интерактивность!“» (Крис Крауфорд, «Fundamentals of Interactivity», 1993). www.digitaltimes.lv bUsiNess
По Брету Виктору — любой информационный проект (будь то программа или веб-сайт) изначально должен рассматриваться как проект по созданию графического дизайна. Он также считает, что программа с хорошим интерфейсом просто обязана перестать действовать в вакууме. Современные программы могут иметь память о прошлых действиях пользователя, они могут знать, где они физически находятся.
Наконец, он предлагает использовать подход «покажи мне, что ты хочешь». Его суть отлично передают маленькие дети — поскольку их словарный запас ограничен, и они ещё не умеют точно выражать свои мысли, им проще наглядно показать то, что они хотят получить или пытаются объяснить. Хороший современный интерфейс должен быть ровно таким же — карта мира вместо выпадающего списка с названиями стран, полный открытый календарь вместо трёх полей для ввода даты, фотографии продуктов вместо списка из их названий.
Клик, клик, клик — быстро, просто, понятно и, что важно, однозначно.
У читателя может сложиться ощущение, что мы, вслед за Бретом Виктором, подходим к проблеме пользовательского интерфейса, как к чисто дизайнерской проблеме. Однако такой подход не единственный из всех возможных, хоть он активно исповедуется многими, в первую очередь, конечно же, Apple. У него есть и крайне мощная оппозиция. Даже две оппозиции, на самом-то деле..
И вер хняя, и нижняя части картинки — одно и т о же, р асписание движения поездов. Т олько нижняя намного нагляднее — по ней, например, можно легко определить г де и ког да пересекают ся маршр уты.
Сделайте мне привычно!
Пользовательскому интерфейсу со всеми его выпадающими менюшками, чекбоксиками и кнопками «Ок» и «Apply» уже больше 20 лет, и опыт Microsoft свидетельствует о том, что существует огромное количество пользователей, для которых важно, чтобы всё было привычно. В самом деле — идея преемственности и единообразия имеет своих последователей. Это именно они ненавидят Apple за то, что она без сожаления ломает стереотипы и заставляет пользователей делать так, как её дизайнеры считают правильным. Это они до сих пор используют как минимум «классический» интерфейс даже в Windows 7, а как максимум — до сих пор сидят на Windows 2000.
Microsoft настолько сильно боится не угодить им и потерять их, что решается на изменения совсем уж в крайнем случае. Наивно думать, что Internet Explorer разрабатывают идиоты — просто «табы» в броузере должны были стать стандартом де-факто, прежде чем компания решилась на их внедрение. Странно полагать, что Windows Mobile создана менее талантливыми людьми, чем iPhone OS или Android. Просто армия бизнес-пользователей не простила бы компании исчезновения кнопки Start.
Силу привычки нельзя недооценивать — и маркетологи очень многих компаний до сих пор запрещают разработчикам раздражать верных пользователей резким изменением интерфейса. Даже если традиционный подход устарел ещё 20 лет назад.
Однако пока «старички» делают маленькие шажки на пути изменений интерфейсов, на рынке появляются новые игроки, которые благодаря роскоши уже самой возможности нестандартного мышления способны переворачивать мир.
Если тебя никто не знает — всё, что ты делаешь и так будет абсолютно новым.
Почему бы не экспериментировать? Почему бы не отказаться от дизайна вовсе?
Если кто-то думает, что такое невозможно, знакомьтесь, Google — компания, в которой нет (и не будет) позиции главного дизайнера.
«До веба у нас были сотни лет опыта с передачей информации на расстоянии, от печатной прессы до телеграфа и телефона.
Но столетия опыта не подготовили нас к дизайнерскими проблемами, с которыми мы столкнулись в социальных сетях» (Клей Ширки, «Social Software and the Politics of Groups», 2003).
То есть компания так настраивает свои серверы, что, например, у 100 тысяч пользователей строка поиска находится внизу страницы, а ещё у 100 тысяч — сверху. Кто воспользуется ею быстрее — тот вариант и «лучший».
Широко известен случай, когда инженеры таким образом выясняли, какой из 41 оттенков синего лучше использовать в одном из новых сервисов.
Справедливости ради — Microsoft также замечена в использовании подобного подхода, однако в значительно меньшей степени. И обычно критикуется лишь практика Google, потому что в этой компании подход «A/B» возведён в культ (и доходит до маразма).
Из-за такого отношения к дизайну в Google, среди людей, которые принимают решения в этой компании, долгое время не было человека, который бы обладал знаниями в области визуального дизайна и графических интерфейсов — и это не помешало Google стать тем, чем она стала. Однако даже после появления в ней Дугласа Боумена, создания сильной команды из дизайнеров и их успешной работы в течение двух лет, ничего существенно не переменилось.
«Я недавно участвовал в дебатах по поводу того, какой ширины должна быть граница рамки — 3, 4 или 5 пикселей, и от меня потребовали доказать мою точку зрения. Я не могу работать в такой обстановке. Я устал от необходимости обсуждать даже столь незначительные дизайнерские решения. В мире существуют более захватывающие дизайнерские проблемы», — написал Боумен в своём блоге, после того как покинул Google. Очевидно, «более захватывающие проблемы» он нашёл в Twitter — во всяком случае сейчас он занимает одну из высших должностей именно в этой компании. У Twitter, кстати, действительно другие дизайнер-
Миллионы не ошибаются?
То, что делает Google, можно считать ярчайшим примером самой главной проблемы графических интерфейсов двух последних десятилетий — их делают не дизайнеры, а инженеры. Именно поэтому мы имеем то, что имеем — все эти папки и файлы, бесконечные вложенные меню и структура меню, которая повторяет структуру программы. В 80–90-е годы программы делались фриками в основном для фриков, и это не было проблемой. Сегодня компьютерами (в самом широком смысле) пользуются сотни миллионов простых, не отягощённых специфическими знаниями людей — им нет дела до внутренней структуры. Всё, что они видят — это интерфейс и возможности.
Однако в большинстве компаний интерфейс продолжают делать инженеры, а Google является просто квинтэссенцией такого подхода — до 2007 года в ней просто не было человека, ответственного за графический дизайн. Потом он появился — компания наняла известного дизайнера Дугласа Боумена. Однако его хватило лишь на несколько лет, потому что оказалось, что Google не нужны дизайнеры, даже очень талантливые.
По словам Боумена, в компании до его прихода и после его прихода считают, что дизайн должен быть предельно функциональным. Если перемещение вот этой кнопки даёт на 10% больше кликов, то плевать, что она уродует страницу — мы её поставим именно туда, где она эффективна.
Для того чтобы вычислить эффективность, в Google активно применяется так называемый метод «A/B» — это когда части пользователей программы или веб-сайта показывается принципиально другой дизайн и на основании их фидбека (явного или не явного) применяется решение.
«Представьте персональное устройство, которое является чем-то вроде механизированной частной библиотеки. Назовём его memex. Оно будет хранить все книги, записи и разговоры каждого человека, оно будет устроено так, что данные из него можно будет извлекать с необыкновенной скоростью и гибкостью» (Ваневар Буш, «As We May Think», 1945).
Функциональ- ность должна быть одинаково удобной и для тех, кто пользуется Twitter раз в неделю чтобы написать о том, что он ел на завтрак, и тем, кто ведёт там «живые» конференции с тысячами и десятками тысяч людей.
Скорость — наше всё
Можно спорить о разных подходах, однако есть и общие вещи, с которыми спорить очень тяжело. Одна из них — это скорость реакции на действия пользователя. За последние пять лет было проведено множество исследований того, как скорость загрузки веб-страниц влияет на пользователей. Оказалось, что с каждым годом пользователи всё менее толерантны к медленным сайтам — если десять лет назад сайт загружался 8–10 секунд и это воспринималось нормально, то сегодня всё, что выходит за пределы двух секунд, воспринимается пользователем как аномалия.
Более быстрые сайты и программы кажутся пользователям более интересными и привлекательными вне зависимости от их действительного содержания, уровня дизайнерских решений и удобства пользования. Выяснили даже, что медленные программы и сайты негативно действуют не только на психологическое, но и физическое состояние пользователей — неожиданное «торможение» приводит к повышению кровяного давления!
Другие исследования показали, что пользователи подсознательно считают более быструю программу или сайт более умными — и чем медленнее работает компьютер или веб-ресурс, тем чаще он заслуживает эпитета «тупой».
Люди вообще любят очеловечивать компьютеры, хотя компьютеры этого страсть как не любят. Многие исследователи даже склонны полагать, что феноменальный успех поисковой машины Google связан не только и не столько с удобством использования, привлекательным внешним видом (если одну строку для ввода в центре экрана можно считать «красивой») и даже не с качеством поиска. Львиная доля в успехе — скорость работы — начиная от загрузки самого поисковика и заканчивая выдачей результатов. Если это действительно так, то навороченный и заведомо более медленный дизайн обновлённого поиска Microsoft обречён на провал. Равно как по этой же причине была обречена и Vista — низкая скорость перевешивала все плюсы.
Мораль из всего этого — даже если нет возможности сделать пользователю красиво и удобно, надо сделать ему хотя бы быстро. И при создании интерфейсов обычных приложений (особенно мобильных), и при создании новых сайтов.
Управление мыслью и телом
Один из потенциально перспективных и интересных методов управления машинами — силой мысли и естественными движениями человеческого тела. Выше, когда мы говорили о том, что интерактивность это плохо, мы упустили один важный момент — это плохо ещё и потому, что наш мозг значительно быстрее, чем наши руки. И хуже того — между мозгом и программой находятся не только руки, но и ещё неестественные с точки зрения природы манипуляторы, такие как мышь или джойстик.

Google считает, чт о подавляющее большинство пользова телей не видит ничег о, кр оме левого верхнего угла.
Не все с этим сог ласны, но Google влиятельнее, поэт ому её т очка зрения преобладает. «Вот провели исследование, куда смотрят люди, когда ищут в гугле.
Оказалось, они смотрят в левую верхнюю часть страницы.
Опубликовали. И наверняка сидит сейчас какой-нибудь идиот и рассказывает кому-то, что все смотрят в левую верхнюю часть страницы... Люди смотрят туда, где им что-то показывают, а вовсе не куда-то туда всегда» (Рома Воронежский, narisoval.ru).
Именно поэтому нас так раздражают бесконечные вложенные меню или запутанный интерфейс — мозг уже знает, что он хочет сделать, но ему надо отдать руке приказ подвинуть курсор мыши сюда, нажать там, потом там и только во-о-о-от в этом меню мы найдём то, что хотим. Не логичнее было бы сказать «сохрани файл» и машина бы послушалась?
И да и нет. Во-первых, многие разработчики предлагают голосовое управление своими программами уже сегодня, однако этот метод так и не прижился — в основном по той же причине, почему считается моветоном делать сайты или банеры с непрошеными звуками: люди привыкли общаться с машиной в тишине и молча. Мы строим свою жизнь вокруг этого принципа молчаливого общения — представьте офис из 20 рабочих мест, все работники которого наговаривают текст, приказывают машине открыть файл, перейти на сайт или изменить разрешение монитора. Сегодня эта картина вызывает смех, хотя, кто знает, может быть через десять лет общение между человеком и машиной будет естественным.
Если, конечно, создатели таких интерфейсов преодолеют второе ограничение — снизят необходимую точность команд. До тех пор, пока машина не научится одинаково точно и однозначно понимать и «сохранить файл», и «сохрани-ка мне файл», и «контрол с», и «сохрани файл» (с набитым ртом) — не будет разницы между голосовым общением и кликами мышкой в том смысле, что и там, и там нужна высокая точность команд.
Что до управления силой мысли — уже есть устройства, которые способны воспринимать мысли человека и действительно позволять двигать курсор. Все кто смотрят сериал House M.D. должны помнить эпизод пятого сезона, в котором таким образом удалось общаться с пациентом, находящемся в «псевдокоме». Однако пока эти технологии находятся в зачаточном состоянии и требуют специально оборудования. А даже если эта проблема и будет решена, появится новая — переделать интерфейс программ.
Тело тоже уже собираются использовать в качестве «джойстика». Пионером стала компания Nintendo, которая сделала игровую консоль Wii. Её особенность заключается в том, что манипуляторы оснащены акселерометрами и большинство игр вовсю использует их — для игры в теннис надо махать «ракеткой», а бокс требует движений настоящего боксёра. Microsoft в своём Project Natal идёт ещё дальше — комплект из камеры и специального программного обеспечения для консоли Xbox 360 сможет распознавать жесты игроков без специальных джойстиков.
Но пока это лишь baby steps. И каждый новый метод «натурального» взаимодействия человека и машины требует либо новых программных интерфейсов, либо аппаратных решений.
Послесловие
Надеемся, что мы дали читателю пищу для размышления. Эта тема намного, намного глубже, и в ней существует множество разных гуру, течений и подходов. Но традиционные интерфейсы готовятся умереть.
Как в своё время Вильям Плейфейр одной статьёй изменил представления о том, как нужно показывать статистическую информацию, так и сейчас должна найтись компания или человек, которые предложат новый подход к дизайну графических интерфейсов. Подход, который перевернёт мир и изменит наше представление о том, как человек на самом деле должен взаимодействовать с машиной. !
«Я смотрю по сторонам и вижу блестящих дизайнеров, которые тратят свою жизнь на создание бесполезных интерактивных моделей на немощных платформах. Я вижу пользователей, которые тратят свою жизнь на клики, перетаскивания...
Я вижу машины, машины, машины» (Брет Виктор, «Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface»).
www.digitaltimes.lv
Самым известным примером является Xerox Alto — идея персонального компьютера (с мышью!), которая провалилась на рынке (продано 25 тыс. штук) из-за плохого маркетинга и которую довели до ума выходцы из PARC, а затем продали IBM.
Именно для Alto в PARC придумали предка современного графического интерфейса на базе окошек и иконок — Xerox Star, подсмотренный инженерами Apple, которым позволили попасть в секретные лаборатории Xerox
PARC в обмен на право выкупа части акций Apple во время первого их размещения. В PARC также придумали лазерную печать, Ethernet, пиксельную графику, WYSIWYG-редактор, InterPress (язык описания графического изображения вне зависимости от разрешения экрана, предтеча PostScript). Исследователи PARC также внесли свой вклад в создание LCD- дисплеев, оптических дисков и даже IPv6.
Xerox Alto — первый носитель привычно - го нам сег одня GUI. Экр ан р асположен вертикально, так удобнее р аботать с документ ами.
Казалось — уважаемый бренд, десятилетия опыта.... и т акой пр окол с интер фейсом!
Нажатие на какую кнопку повезёт нас вниз?
Очередная отсылка в прошлое, причём предшествующее созданию гра-фического интерфейса. Вот что пишет Джозеф Карл Робнетт Лайкклайдер в книге “Man-Computer Symbiosis” (1960): «Весной и летом 1957 года… я пытался отследить, что относитель-но техническая личность (я) на самом деле делает во время тех часов, которые, как ей казалось, она тратит на работу…. Около 85 процентов моего времени, отведённого на «думание», было потрачено на то, чтобы узнать что-то, придти к точке, после которой я принимал решение. Намного больше времени было потрачено на то, чтобы найти информацию, чем на её обработку. В вычерчивание графиков были вложены часы, а ещё больше времени уходило на то, чтобы обучить помощника тому, как их чертить. Когда графики были закончены, общая картина наконец-то становилась ясной, однако для достижения этого их всё же надо было начертить…. Коротко говоря, в течение того периода моё рабочее время было посвящено задачам, которые можно назвать «механическими»: поиску, расчётам, черчению, определению логических или динамических связей в наборе предположений или гипотез — всё это подготавливало почву для принятия решения или появления „озарения“».
Забавно, но с 1957 года ничего не изменилось — для того чтобы просто механически набрать эту статью, автору потребовалось около одного рабочего дня. Однако часы, и часы, и часы были потрачены на создание её предварительной «модели»: на изучение множества самых разных материалов, общение с людьми, «игру» с цитатами — всё для того, чтобы сначала выстроить стройную картину и лишь затем изложить её. Большую (подавляющую!) часть времени, потраченного на написание статьи, автор искал и связывал воедино огромные массивы информации.
Люди используют программное обеспечение для того, чтобы найти ответ на вопрос или решить проблему. Что идёт в кинотеатре? Что можно приготовить из двух бананов и килограмма макарон? Как починить машину? Сколько денег я трачу в месяц на еду? К сожалению, большинство современных программ, особенно сделанных вчерашними студентами, затрудняет получение информации.
Вот, например (см.иллюстрацию 1е), как Брет Виктор предлагает изменить расписание движения поездов, и так достаточно неплохое, на первый взгляд, на существенно более наглядное. В его версии, поначалу шокирующей, видно, как пересекаются разные маршруты и как они соотносятся во времени и пространстве — из оригинального расписания подобную картину сделать можно лишь в уме. Версия Виктора даёт ответы на вопросы, которые мы ещё даже не задали — и это ключ к успешному графическому дизайну, давать ответы на незаданные вопросы и приводить человека не туда, куда он просит привести, а куда он на самом деле хочет попасть.

«Постоянство, предсказуемость и одинаковость поведения одного элемента управления должны присутствовать во всей системе... Человек знаком с десятком элементов интерфейса операционной системы и не станет осваивать новые способы управления только потому, что они присутствуют на сайте, который он видит впервые» (Артемий Лебедев, «Ководство»). «У меня есть приятель, который любил повторять: „Да ладно тебе, Крис! Кому нужно всё это мумбо-джумбо вокруг искусственного интеллекта? Даже холодильник интерактивен. Ты открываешь его дверцу, и загорается лампочка. Ты её закрываешь, и лампочка гаснет. Вот это интерактивность!“» (Крис Крауфорд, «Fundamentals of Interactivity», 1993). www.digitaltimes.lv bUsiNess
По Брету Виктору — любой информационный проект (будь то программа или веб-сайт) изначально должен рассматриваться как проект по созданию графического дизайна. Он также считает, что программа с хорошим интерфейсом просто обязана перестать действовать в вакууме. Современные программы могут иметь память о прошлых действиях пользователя, они могут знать, где они физически находятся.
Наконец, он предлагает использовать подход «покажи мне, что ты хочешь». Его суть отлично передают маленькие дети — поскольку их словарный запас ограничен, и они ещё не умеют точно выражать свои мысли, им проще наглядно показать то, что они хотят получить или пытаются объяснить. Хороший современный интерфейс должен быть ровно таким же — карта мира вместо выпадающего списка с названиями стран, полный открытый календарь вместо трёх полей для ввода даты, фотографии продуктов вместо списка из их названий.
Клик, клик, клик — быстро, просто, понятно и, что важно, однозначно.
У читателя может сложиться ощущение, что мы, вслед за Бретом Виктором, подходим к проблеме пользовательского интерфейса, как к чисто дизайнерской проблеме. Однако такой подход не единственный из всех возможных, хоть он активно исповедуется многими, в первую очередь, конечно же, Apple. У него есть и крайне мощная оппозиция. Даже две оппозиции, на самом-то деле..
И вер хняя, и нижняя части картинки — одно и т о же, р асписание движения поездов. Т олько нижняя намного нагляднее — по ней, например, можно легко определить г де и ког да пересекают ся маршр уты.
Сделайте мне привычно!
Пользовательскому интерфейсу со всеми его выпадающими менюшками, чекбоксиками и кнопками «Ок» и «Apply» уже больше 20 лет, и опыт Microsoft свидетельствует о том, что существует огромное количество пользователей, для которых важно, чтобы всё было привычно. В самом деле — идея преемственности и единообразия имеет своих последователей. Это именно они ненавидят Apple за то, что она без сожаления ломает стереотипы и заставляет пользователей делать так, как её дизайнеры считают правильным. Это они до сих пор используют как минимум «классический» интерфейс даже в Windows 7, а как максимум — до сих пор сидят на Windows 2000.
Microsoft настолько сильно боится не угодить им и потерять их, что решается на изменения совсем уж в крайнем случае. Наивно думать, что Internet Explorer разрабатывают идиоты — просто «табы» в броузере должны были стать стандартом де-факто, прежде чем компания решилась на их внедрение. Странно полагать, что Windows Mobile создана менее талантливыми людьми, чем iPhone OS или Android. Просто армия бизнес-пользователей не простила бы компании исчезновения кнопки Start.
Силу привычки нельзя недооценивать — и маркетологи очень многих компаний до сих пор запрещают разработчикам раздражать верных пользователей резким изменением интерфейса. Даже если традиционный подход устарел ещё 20 лет назад.
Однако пока «старички» делают маленькие шажки на пути изменений интерфейсов, на рынке появляются новые игроки, которые благодаря роскоши уже самой возможности нестандартного мышления способны переворачивать мир.
Если тебя никто не знает — всё, что ты делаешь и так будет абсолютно новым.
Почему бы не экспериментировать? Почему бы не отказаться от дизайна вовсе?
Если кто-то думает, что такое невозможно, знакомьтесь, Google — компания, в которой нет (и не будет) позиции главного дизайнера.
«До веба у нас были сотни лет опыта с передачей информации на расстоянии, от печатной прессы до телеграфа и телефона.
Но столетия опыта не подготовили нас к дизайнерскими проблемами, с которыми мы столкнулись в социальных сетях» (Клей Ширки, «Social Software and the Politics of Groups», 2003).
То есть компания так настраивает свои серверы, что, например, у 100 тысяч пользователей строка поиска находится внизу страницы, а ещё у 100 тысяч — сверху. Кто воспользуется ею быстрее — тот вариант и «лучший».
Широко известен случай, когда инженеры таким образом выясняли, какой из 41 оттенков синего лучше использовать в одном из новых сервисов.
Справедливости ради — Microsoft также замечена в использовании подобного подхода, однако в значительно меньшей степени. И обычно критикуется лишь практика Google, потому что в этой компании подход «A/B» возведён в культ (и доходит до маразма).
Из-за такого отношения к дизайну в Google, среди людей, которые принимают решения в этой компании, долгое время не было человека, который бы обладал знаниями в области визуального дизайна и графических интерфейсов — и это не помешало Google стать тем, чем она стала. Однако даже после появления в ней Дугласа Боумена, создания сильной команды из дизайнеров и их успешной работы в течение двух лет, ничего существенно не переменилось.
«Я недавно участвовал в дебатах по поводу того, какой ширины должна быть граница рамки — 3, 4 или 5 пикселей, и от меня потребовали доказать мою точку зрения. Я не могу работать в такой обстановке. Я устал от необходимости обсуждать даже столь незначительные дизайнерские решения. В мире существуют более захватывающие дизайнерские проблемы», — написал Боумен в своём блоге, после того как покинул Google. Очевидно, «более захватывающие проблемы» он нашёл в Twitter — во всяком случае сейчас он занимает одну из высших должностей именно в этой компании. У Twitter, кстати, действительно другие дизайнер-
Миллионы не ошибаются?
То, что делает Google, можно считать ярчайшим примером самой главной проблемы графических интерфейсов двух последних десятилетий — их делают не дизайнеры, а инженеры. Именно поэтому мы имеем то, что имеем — все эти папки и файлы, бесконечные вложенные меню и структура меню, которая повторяет структуру программы. В 80–90-е годы программы делались фриками в основном для фриков, и это не было проблемой. Сегодня компьютерами (в самом широком смысле) пользуются сотни миллионов простых, не отягощённых специфическими знаниями людей — им нет дела до внутренней структуры. Всё, что они видят — это интерфейс и возможности.
Однако в большинстве компаний интерфейс продолжают делать инженеры, а Google является просто квинтэссенцией такого подхода — до 2007 года в ней просто не было человека, ответственного за графический дизайн. Потом он появился — компания наняла известного дизайнера Дугласа Боумена. Однако его хватило лишь на несколько лет, потому что оказалось, что Google не нужны дизайнеры, даже очень талантливые.
По словам Боумена, в компании до его прихода и после его прихода считают, что дизайн должен быть предельно функциональным. Если перемещение вот этой кнопки даёт на 10% больше кликов, то плевать, что она уродует страницу — мы её поставим именно туда, где она эффективна.
Для того чтобы вычислить эффективность, в Google активно применяется так называемый метод «A/B» — это когда части пользователей программы или веб-сайта показывается принципиально другой дизайн и на основании их фидбека (явного или не явного) применяется решение.
«Представьте персональное устройство, которое является чем-то вроде механизированной частной библиотеки. Назовём его memex. Оно будет хранить все книги, записи и разговоры каждого человека, оно будет устроено так, что данные из него можно будет извлекать с необыкновенной скоростью и гибкостью» (Ваневар Буш, «As We May Think», 1945).
Функциональ- ность должна быть одинаково удобной и для тех, кто пользуется Twitter раз в неделю чтобы написать о том, что он ел на завтрак, и тем, кто ведёт там «живые» конференции с тысячами и десятками тысяч людей.
Скорость — наше всё
Можно спорить о разных подходах, однако есть и общие вещи, с которыми спорить очень тяжело. Одна из них — это скорость реакции на действия пользователя. За последние пять лет было проведено множество исследований того, как скорость загрузки веб-страниц влияет на пользователей. Оказалось, что с каждым годом пользователи всё менее толерантны к медленным сайтам — если десять лет назад сайт загружался 8–10 секунд и это воспринималось нормально, то сегодня всё, что выходит за пределы двух секунд, воспринимается пользователем как аномалия.
Более быстрые сайты и программы кажутся пользователям более интересными и привлекательными вне зависимости от их действительного содержания, уровня дизайнерских решений и удобства пользования. Выяснили даже, что медленные программы и сайты негативно действуют не только на психологическое, но и физическое состояние пользователей — неожиданное «торможение» приводит к повышению кровяного давления!
Другие исследования показали, что пользователи подсознательно считают более быструю программу или сайт более умными — и чем медленнее работает компьютер или веб-ресурс, тем чаще он заслуживает эпитета «тупой».
Люди вообще любят очеловечивать компьютеры, хотя компьютеры этого страсть как не любят. Многие исследователи даже склонны полагать, что феноменальный успех поисковой машины Google связан не только и не столько с удобством использования, привлекательным внешним видом (если одну строку для ввода в центре экрана можно считать «красивой») и даже не с качеством поиска. Львиная доля в успехе — скорость работы — начиная от загрузки самого поисковика и заканчивая выдачей результатов. Если это действительно так, то навороченный и заведомо более медленный дизайн обновлённого поиска Microsoft обречён на провал. Равно как по этой же причине была обречена и Vista — низкая скорость перевешивала все плюсы.
Мораль из всего этого — даже если нет возможности сделать пользователю красиво и удобно, надо сделать ему хотя бы быстро. И при создании интерфейсов обычных приложений (особенно мобильных), и при создании новых сайтов.
Управление мыслью и телом
Один из потенциально перспективных и интересных методов управления машинами — силой мысли и естественными движениями человеческого тела. Выше, когда мы говорили о том, что интерактивность это плохо, мы упустили один важный момент — это плохо ещё и потому, что наш мозг значительно быстрее, чем наши руки. И хуже того — между мозгом и программой находятся не только руки, но и ещё неестественные с точки зрения природы манипуляторы, такие как мышь или джойстик.

Google считает, чт о подавляющее большинство пользова телей не видит ничег о, кр оме левого верхнего угла.
Не все с этим сог ласны, но Google влиятельнее, поэт ому её т очка зрения преобладает. «Вот провели исследование, куда смотрят люди, когда ищут в гугле.
Оказалось, они смотрят в левую верхнюю часть страницы.
Опубликовали. И наверняка сидит сейчас какой-нибудь идиот и рассказывает кому-то, что все смотрят в левую верхнюю часть страницы... Люди смотрят туда, где им что-то показывают, а вовсе не куда-то туда всегда» (Рома Воронежский, narisoval.ru).
Именно поэтому нас так раздражают бесконечные вложенные меню или запутанный интерфейс — мозг уже знает, что он хочет сделать, но ему надо отдать руке приказ подвинуть курсор мыши сюда, нажать там, потом там и только во-о-о-от в этом меню мы найдём то, что хотим. Не логичнее было бы сказать «сохрани файл» и машина бы послушалась?
И да и нет. Во-первых, многие разработчики предлагают голосовое управление своими программами уже сегодня, однако этот метод так и не прижился — в основном по той же причине, почему считается моветоном делать сайты или банеры с непрошеными звуками: люди привыкли общаться с машиной в тишине и молча. Мы строим свою жизнь вокруг этого принципа молчаливого общения — представьте офис из 20 рабочих мест, все работники которого наговаривают текст, приказывают машине открыть файл, перейти на сайт или изменить разрешение монитора. Сегодня эта картина вызывает смех, хотя, кто знает, может быть через десять лет общение между человеком и машиной будет естественным.
Если, конечно, создатели таких интерфейсов преодолеют второе ограничение — снизят необходимую точность команд. До тех пор, пока машина не научится одинаково точно и однозначно понимать и «сохранить файл», и «сохрани-ка мне файл», и «контрол с», и «сохрани файл» (с набитым ртом) — не будет разницы между голосовым общением и кликами мышкой в том смысле, что и там, и там нужна высокая точность команд.
Что до управления силой мысли — уже есть устройства, которые способны воспринимать мысли человека и действительно позволять двигать курсор. Все кто смотрят сериал House M.D. должны помнить эпизод пятого сезона, в котором таким образом удалось общаться с пациентом, находящемся в «псевдокоме». Однако пока эти технологии находятся в зачаточном состоянии и требуют специально оборудования. А даже если эта проблема и будет решена, появится новая — переделать интерфейс программ.
Тело тоже уже собираются использовать в качестве «джойстика». Пионером стала компания Nintendo, которая сделала игровую консоль Wii. Её особенность заключается в том, что манипуляторы оснащены акселерометрами и большинство игр вовсю использует их — для игры в теннис надо махать «ракеткой», а бокс требует движений настоящего боксёра. Microsoft в своём Project Natal идёт ещё дальше — комплект из камеры и специального программного обеспечения для консоли Xbox 360 сможет распознавать жесты игроков без специальных джойстиков.
Но пока это лишь baby steps. И каждый новый метод «натурального» взаимодействия человека и машины требует либо новых программных интерфейсов, либо аппаратных решений.
Послесловие
Надеемся, что мы дали читателю пищу для размышления. Эта тема намного, намного глубже, и в ней существует множество разных гуру, течений и подходов. Но традиционные интерфейсы готовятся умереть.
Как в своё время Вильям Плейфейр одной статьёй изменил представления о том, как нужно показывать статистическую информацию, так и сейчас должна найтись компания или человек, которые предложат новый подход к дизайну графических интерфейсов. Подход, который перевернёт мир и изменит наше представление о том, как человек на самом деле должен взаимодействовать с машиной. !
«Я смотрю по сторонам и вижу блестящих дизайнеров, которые тратят свою жизнь на создание бесполезных интерактивных моделей на немощных платформах. Я вижу пользователей, которые тратят свою жизнь на клики, перетаскивания...
Я вижу машины, машины, машины» (Брет Виктор, «Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface»).
www.digitaltimes.lv